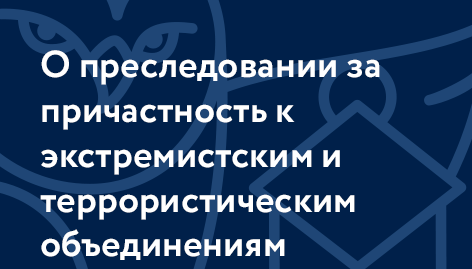10 мая 2018 года международная правозащитная группа "Агора" опубликовала доклад "Россия против Истории. Наказание за пересмотр". Он посвящен случаям вмешательства государства в свободу выражения в связи с интерпретацией и оценкой исторических событий, а также ограничению доступа к архивам.
В результаты мониторинга "Агоры" попали сто отдельных эпизодов, в том числе 17 случаев уголовного преследования, 18 административных дел, 41 пример цензуры, семь актов правового регулирования и предложений по его изменению и шесть гражданских исков (перечень эпизодов представлен в приложении к докладу).
Авторы доклада отметили, что в последние годы государство предпринимало усилия по закреплению единой концепции отечественной истории, и параллельно с этим "защита «исторических ценностей» стала предлогом для преследования гражданских активистов и представителей политической оппозиции", причем "основным инструментом естественным образом стало антиэкстремистское законодательство".
В число примеров уголовного преследования вошли дело осужденного по ст. 282 УК Рафиса Кашапова и дела по ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма) в отношении Владимира Лузгина, Владимира Оленникова, Игоря Дорогого, Алексея Волкова. Отметим, что часть приговоров по ст. 354.1 УК выносится за высказывания об истории в форме вандализирования памятников - деяния, которое давно криминализовано в России. Однако по ч. 3 по ст. 354.1 УК не может быть назначено наказание в виде лишения свободы, в отличие от ч. 2 ст. 214 УК (вандализм по мотиву ненависти).
Число административных дел по ст. 20.3 КоАП (публичное демонстрирование запрещенной символики) с 2012 года возросло в девять раз, отмечает "Агора". Среди них есть примеры привлечения к ответственности за демонстрирование нацистской символики в историческом контексте - такие, как дело сахалинского книжного магазина, продававшего книгу "Солдаты Вермахта", или журналистки Полины Данилевич, опубликовавшей фото собственного двора времен немецкой оккупации. Вместе с тем есть и случаи оправдания: по делу Михаила Листова и Андрея Егорова.
Отдельно авторы доклада пишут о случаях запрета публикаций под предлогом противодействия экстремизму. В качестве примеров приводятся запреты как статей историков (Себастьяна Штоппера и Кирилла Александрова), так и трудов разнообразных идеологов фашизма и антисемитизма. Запреты, например, нацистских текстов можно рассматривать как ограничение на доступ к историческим первоисточникам, но можно и как ограничение пропаганды ненависти. Первое явно нежелательно, второе же лежит в русле конституционных ограничений на свободу высказывания. С точки зрения центра "Сова", государственную политику в этой сфере следует критиковать не только и, возможно, не столько за репрессивное отношение к историческим материалам, сколько за непропорциональные меры в деле противодействия пропаганде ненависти и в выборе негодных механизмов для этого, к числу которых относится и запрет книг.
"Агора" акценирует внимание на позиции Европейского суда по правам человека, который указывал, что поиск исторической правды является неотъемлемой частью свободы слова, а суду не следует вмешиваться в дебаты историков относительно имевших место событий и их интерпретаций. Тем не менее, отрицание или пересмотр некоторых исторических фактов, таких как Холокост, признается злоупотреблением правом на свободу выражения и, соответственно, выведено из-под защиты статьи 10 Конвенции, замечают авторы доклада. Мы же можем добавить, что криминализация "исторического ревизионизма" является общеевропейской тенденцией последних двадцати лет и касается отнюдь не только "отрицания Холокоста", а Совет ЕС считает такую криминализацию обязательной для национальных законодательств. Впрочем, это не означает консенсуса в вопросе о том, надо ли криминализовать "исторический ревизионизм", и тем более не отменяет претензий к самому составу ст. 354.1 УК.
В тексте доклада также отмечено, что важным критерием для ЕСПЧ является срок, прошедший с момента рассматриваемых событий: нельзя применять равно строгие стандарты к оценке недавних событий и тех, которые произошли сотни лет назад, считает суд. Кроме того, ЕСПЧ полагает, что каждое государство обязано прилагать усилия для открытого и беспристрастного обсуждения собственной истории, и, в частности, давать историкам доступ к документальным источникам.
По мнению "Агоры", "никаких признаков того, что российские суды, полиция, прокуроры и следователи готовы учитывать и применять на практике международно-признанные принципы свободы исторической дискуссии нет, а потому следует ожидать дальнейшего увеличения числа уголовных дел и административных арестов, а также разрастания списка запрещенной литературы".