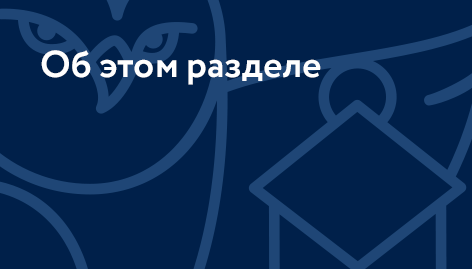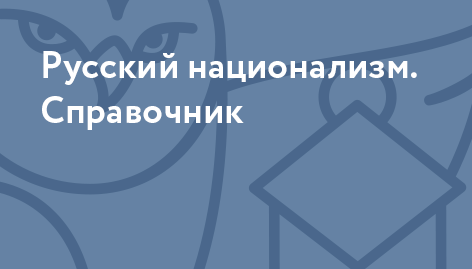Радикальность политических групп и течений может пониматься как в плане взглядов, так и в плане методов действия — используемых или прокламируемых. Говорить о радикальности взглядов применительно ко всему движению русских националистов невозможно, так как оно всегда было весьма многообразно в идейном плане. Если попытаться увидеть его в целом, можно сказать, что основная его часть всегда стояла в более или менее решительной оппозиции к существующему в постсоветской России политическому порядку и к его конституционным основам, как бы они ни менялись. Поэтому в статье речь пойдет только о радикализации русских националистов во втором смысле— в плане реальных или предполагаемых методов действия. Радикальными при этом будем считать методы, связанные с применением насилия, включая призывы к его применению. Это не единственное возможное понимание радикальности методов, но зато достаточно распространенное, удобное в обсуждении и очень значимое для движения русских националистов.
Поскольку мы будем говорить о динамике, необходимо начать с важного замечания. Конечно, русские националисты— это политическое движение или даже политическая среда, и состав этой среды очень пестрый в любом отношении. В том числе представлен весь возрастной спектр, хотя и неравномерно: есть видимый дефицит в средних возрастах. Но если иметь в виду более радикальную, то есть более склонную к насилию часть движения, здесь подавляющее большинство составляют люди молодые— от среднего и даже младшего подросткового возраста до примерно 25 лет. А люди такого возраста обладают в среднем двумя особенностями: во‑первых, важна эмоциональность (соответственно, поведение весьма изменчиво), во‑вторых, поколения радикалов сменяются быстро, всего за несколько лет. Поэтому недавние события важнее, чем долговременная память движения (хотя она есть и даже культивируется). В результате молодежная и радикальная часть движения быстрее реагирует на разные факторы, чем более умеренная и возрастная. И действительно, практики насилия в русском национализме трансформировались довольно быстро.
В этой статье мы сперва кратко рассмотрим динамику
развития движения и особенно его радикальности в смысле отношения
к насилию, а потом обсудим факторы, которые могли бы объяснить
именно такую динамику.
История ультраправого насилия в двух словах
Если максимально кратко описывать динамику насилия[1], видна неравномерность темпов перемен — есть периоды качественных изменений, это около 2000 года, 2007—2009 и 2012—2014 годы. Первая половина 1990‑х была временем скорее больших планов насилия, чем реального его применения, но со второй половины большие планы пропали, зато снизу постепенно поднималась наци-скинхедская, неонацистская волна повседневного насилия, причем направленного против не «антинародного режима», а непосредственно против «этнических врагов». Неонацистское насилие пережило два пика— в начале и во второй половине нулевых годов, и только на втором пике хотя бы отчасти повернуло против «системы», и то во многом в отместку за то, что «система» начала наконец активно ловить и сажать неонаци. Параллельно на базе той же среды выросли политические движения— как неонацистские, так и стремящиеся превратиться из ультраправых в национал-популистские, а от насилия хотя бы отчасти дистанцироваться, и здесь главным примером было Движение против нелегальной иммиграции (ДПНИ). Новые организации «нулевых» годов отличались от организаций 1990‑х еще и тем, что гораздо меньше спорили о разных аспектах национализма: определении «русскости», чаемой форме правления, религиозных приоритетах и т. д., а фокусировались на одном пункте— на идее этнокультурной однородности и, соответственно, неприятии миграции, как внешней, так и внутренней. В принципе, энергия бывших и актуальных наци-скинов могла бы таким образом трансформироваться в политическое русло, опираясь на массовую мигрантофобию. Но «политическим националистам» активно мешали сверху, и, что не менее важно, организации этого типа со своей слишком радикальной активистской базой так и не смогли выйти за стилистические рамки «русского марша», неприемлемые для среднего гражданина: как бы плохо ни относился этот гражданин к мигрантам и вообще к «нерусским», толпа хулиганистой молодежи с малопонятной и подозрительной символикой его отпугивала. В совокупности это привело движение к кризису.
Между тем масштабное уголовное преследование реальных милитантных групп вело после 2008 года к стремительному падению уровня насилия[2] . В 2011—2013 годах ультраправые пытались выйти из положения, переходя от убийств в подворотнях к формам менее брутального и обычно безопасного для них насилия (рейды по мигрантским общежитиям и т. д.), но и эта форма радикальных действий позже стала приходить в упадок. То ли сказывалось общее снижение активности в ультраправом секторе, то ли сильно отвлекли начавшиеся вскоре события в Украине[3].
Война в Донбассе, казалось бы, давала с весны 2014 года редкий шанс реализовать тягу к насилию. Ее и реализовывали, причем по обе стороны линии фронта, но совсем не столь многие[4] . И с тех пор мы видим постоянный процесс дерадикализации в движении: уровень насилия почти равномерно снижается (хотя 2021 год был исключением), а немногочисленные реально радикальные группы правоохранители теперь успевают разгромить на ранних стадиях[5].
Снижение активности коснулось, кстати, и тех
националистических групп, которые полностью поддерживают политику Кремля
и, тем самым, не могут списывать недостаток активности, в том
числе радикальной, на репрессии, как это делают оппозиционные
националисты. Мы видим, что такие группы, как НОД или SERB, заметные своим
политическим хулиганством в 2014—2015 годах, потом снижали
активность, особенно силовую, и последняя не возродилась после
24 февраля 2022 года. Впрочем, после этой даты мы вообще никакой
радикальной активизации националистов любого толка не видим. А приток
ультраправых на фронт в 2022 году оказался на порядок
слабее, чем был в 2014—2015 годах[6].
Пять факторов (де)радикализации
Упадок ультраправого движения— сложный феномен, который мы не можем здесь охватить, но и собственно дерадикализация в этом секторе, «славном» своими традициями насилия, нуждается в объяснении. Для этого просто попробуем рассмотреть основные факторы радикализации и как они сработали применительно к русским ультраправым 2000‑х годов.
Первый фактор— специфическая идеология, придающая особое значение насилию. В данном случае она была представлена в полной мере. Идеи White Power, присущие и наци-скинхедам, и выросшим на их основе политическим движениям типа ДПНИ, с самого начала отвергали многообразие и сложность националистических течений 1990‑х годов в пользу белого расизма как простого и притом универсального ответа на все вопросы. White Power санкционировала «прямое действие», то есть насилие, и как политический инструмент подготовки «белой революции», и как практику личного самосовершенствования. Простота этих идей и низкий, до середины нулевых, риск попасть за решетку при нападениях на «инородцев» способствовали вовлечению в идеологизированное насилие множества людей. В начале нулевых эти идеи определенно набирали популярность, но как далее оценить динамику популярности White Power, определить очень сложно. Разрозненные наблюдения позволяют сказать, что сейчас эти идеи заметно менее популярны, чем десять или даже пять лет назад, но в какой момент их популярность стала спадать— до или после начала снижения уровня насилия, неизвестно.
Второй, очень часто обсуждаемый фактор— социально-экономический: сложные, ухудшившиеся или как-то еще резко меняющиеся социальные обстоятельства семей могут способствовать обращению молодых людей к радикальным методам. Умозрительно это кажется правдоподобным, хотя механизм влияния именно на молодых не так уж ясен. Но главное, этот фактор в данном случае, кажется, вообще ни при чем. Да, похоже, что многие из наци-скинхедов и последующих, уже не скинхедских по стилистике, боевых неонаци были выходцами из сравнительно бедных семей, но далеко не только из таких[7]. По крайней мере, действительно сильной корреляции с уровнем жизни родителей в этих группах молодежи никто не установил. И уж явно эта корреляция не могла бы оказаться выше, чем у аполитичных групп уличных хулиганов или в родственной субкультуре футбольных хулиганов. Незначимость этой корреляции особо видна в динамике: период после 1998 года характеризовался экономическим подъемом и ростом благосостояния населения, и именно эти годы стали временем бурного роста расистского насилия, а после кризиса 2008 года насилие, напротив, пошло на спад— и так и шло, несмотря на то, что кризис с тех пор сменился подъемом, а потом— опять кризисом. Иных резких перемен в социальной сфере, которые могли бы массово вызывать дезадаптацию молодых людей, все эти годы также не было.
Третий важный, но обычно упускаемый из виду фактор — общий уровень насилия в обществе, низовая культура насилия, в которой могут вырастать будущие участники радикальных групп. Здесь, конечно, надо признать, что уровень насилия в России очень высок. И когда мы говорим, что количество жестоких преступлений ненависти в конце нулевых годов было невероятно велико по сравнению даже с пиковыми значениями в прежние периоды в Европе, этот показатель стоит сперва нормировать на общий уровень насилия в стране. Но оценивать влияние и этого фактора лучше все же в динамике.
Наиболее достоверной по сравнению с другими категориями преступлений обычно считается статистика убийств. Количество убитых в России пережило с начала 1990‑х годов два пика, естественно совпавшие с двумя чеченскими войнами, но далее шло быстрое снижение: примерно вдвое за каждые семь лет, от более 30 убитых на 100 тысяч населения в 2002 году до менее пяти в 2020 году[8] . Центр «Сова» ведет учет жертв преступлений ненависти (конечно, неточный и очень неполный, но нас сейчас интересует динамика, и ее по этим данным все же можно оценивать, так как методология их сбора мало менялась со временем) с 2004 года, так что мы не знаем данных по первой волне наци-скинхедского террора в самом начале 2000‑х. Но с 2004 года мы видим резкий рост числа жертв; количество известных нам убитых выросло к 2008 году с 50 до 116, а потом начало почти так же быстро снижаться. И только с 2015 года, когда уровень расистского насилия уже серьезно упал и почти стабилизировался[9], можно говорить, что и его отношение к интенсивности убийств в стране тоже стабилизировалось. То есть только когда волна неонацистского насилия была сбита, динамику этого насилия стало можно хотя бы примерно соотнести с динамикой насилия вообще, а до этого основными были явно другие факторы.
Четвертый фактор— наличие и доступность политической альтернативы радикальным методам. Сами радикалы любят ссылаться на этот фактор, но, конечно, не только они: авторитарный режим определенно ограничивает возможности политической активности, тем более для радикалов. Но и с этим фактором тоже все непросто. Первоначально, в 1990‑е годы, White Power и уличное насилие противопоставлялись не запрету националистам на политику (да тогда и не было такого запрета, хотя какие-то препоны существовали), а прогрессирующей неуспешности политики «старых националистов». Да и в первой половине нулевых все было еще не так плохо с политическими возможностями: вспомним успехи старой партии «Родина» в 2003—2005 годах, а ДПНИ и дальше набирало обороты. По-настоящему ощущение безнадежности политического участия пришло к националистам, когда в 2007 году сверху был разрушен проект большой системной националистической партии «Великая Россия». Но после этого, заметим, насилие вовсе не выросло, а наоборот, начало снижаться.
И, наконец, пятый фактор радикализации— месть. Это фактор особого рода, связанный не с изменениями в обществе в целом, а с мотивами субъективного порядка, характерными для конкретной активистской среды. Месть может быть направлена как против властей, то есть в ответ на репрессии, так и против конкурирующих радикальных групп, с которыми происходят столкновения. Действие этого фактора было хорошо заметно, особенно в 2007—2009 годах, когда одновременно ужесточались столкновения с боевыми антифа (и в меньшей степени— с организованными группировками кавказской молодежи) и шли массовые аресты ультраправых боевиков, что привело к умножению теоретиков и практиков атак на «систему». Видимо, этот фактор стал главной причиной того, что в 2008 году на фоне начавшегося уже снижения общего уровня расистского насилия количество убийств заметно выросло. Именно в 2008—2009 годах, по данным Центра «Сова», отношение количества убитых к общему количеству потерпевших от преступлений ненависти было около 0,2 (и еще почему-то в 2014 году), а в другие годы— около 0,1 или даже ниже.
Есть еще интересный вопрос, оказывали ли радикализующее действие на ультраправых явные злоупотребления со стороны правоохранительных органов, включая применение пыток. Радикальные националисты воспринимали себя находящимися на войне и не очень рассчитывали на процессуальную законность, но ведь и на войне есть правила, и их слишком явное попрание может радикализовать движение. Увы, у нас нет достаточно данных, чтобы хоть как-то проверить эту гипотезу.
Так или иначе, снижение уровня насилия влекло к снижению уровня преследования за него. Примерно с 2011 года на смену уголовным делам за насилие пришли дела за возбуждение ненависти и иные «экстремистские высказывания», в том числе часто, по крайней мере в первой половине 2010‑х,— за призывы к насилию. Судя по многочисленным высказываниям русских националистов, уголовное преследование «за слова», даже если оно не приводило за решетку (а так обычно и было), воспринималось в их среде как чрезмерное. Но на общем фоне снижения насилия уже незаметна никакая радикализация из мести за эту чрезмерность.
Таким образом, если ограничиться этими краткими рассуждениями, мы можем предположить, что радикализация русского национализма со второй половины 1990‑х и до примерно 2007 года подталкивалась в первую очередь, если не исключительно, ростом популярности ориентированной на насилие неонацистской идеологии, а последующая дерадикализация объясняется в основном успешной репрессивной политикой, хотя нельзя исключать, что какую-то роль сыграл упадок радикальной идеологии. И, вдобавок к этому, спад уровня идейно мотивированного насилия связан все же и с общим снижением насилия в обществе. А вот прочие факторы— как в радикализации, так и в дерадикализации— пока не кажутся значимыми.
[1] Подробнее я об этом писал в: Верховский А. Динамика насилия в русском национализме // Россия— не Украина: современные акценты национализма. М. :Центр «Сова», 2014. С. 32—61. URL: https://www.sova-center.ru/files/ books/ru14‑text.pdf (данный материал создан и распространен российским юридическим лицом, признанным выполняющим функции «иностранного агента»).
[2] Все необходимые графики, основанные на мониторинге Центра «Сова»*, можно найти в последнем годовом докладе по этой тематике: Юдина Н. Государство снова взялось за расистское насилие: Преступления ненависти и противодействие им в России в 2021 году // Центр «Сова». 2022. 31 января. URL: https://www.sova-center.
ru/racism-xenophobia/publications/2022/01/d45715 (данный материал создан и распространен российским
юридическим лицом, признанным выполняющим функции «иностранного агента»).
[3] Процесс общего упадка тех лет я описывал в: Верховский А. Национал-радикалы от президентства Медведева до войны в Донбассе // Контрапункт. 2015. № 2. URL: https://www.ponarseurasia.org/wp-content/uploads/attachments/verkhovsky_counterpoint2.pdf.
[4] Yudina N. (2015) Russian Nationalists Fight Ukrainian War. Journal on Baltic Security. P. 47—61. URL: https://web. archive.org/web/20150730024943/http://www.baltdefcol.org/files/files/journal/JOBS01.pdf. На русском частично это можно прочесть в: Юдина Н. Ультраправые страсти по Украине // Центр «Сова». 2014. 15 сентября. URL: https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/publications/2014/09/d30505 (данный материал создан и распространен российским юридическим лицом, признанным выполняющим функции «иностранного агента»).
[5] В качестве примера можно привести неудачную попытку воссоздать в начале 20‑х годов ранее разгромленную сетевую структуру NS/WP: Арестованы подозреваемые в подготовке убийства Владимира Соловьева // Центр «Сова». 2022. 25 апреля. URL: https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2022/04/ d46180 (данный материал создан и распространен российским юридическим лицом, признанным выполняющим функции «иностранного агента»).
[6] Альперович В. Две кампании: антимигрантская и вторая украинская. Публичная активность ультраправых групп, зима-весна 2022 года // Центр «Сова». 01.07.2022. URL: https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/ publications/2022/07/d46545 (данный материал создан и распространен российским юридическим лицом, признанным выполняющим функции «иностранного агента»).
[7] Хороших количественных исследований, похоже, нет. Но, например, слабость такой корреляции в межрегиональном плане показана в: Myagkov M., Shchekotin E.V., Goiko V.L., Kashpur V. V., Aksenova E.A. (2019) The Socio-Economic and Demographic Factors of Online Activity among Right-Wing Radicals. Studies of Transition States and Societies. Vol. 11. No. 1. P. 19—38.
[8] ЕМИСС. Государственная статистика. URL: https://fedstat.ru/indicator/31270.
[9] См. упомянутый доклад Н. Юдиной.